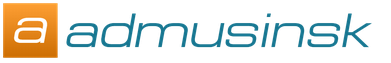Есенина одинаково любят, как коммунисты, так и антикоммунисты. Творчество Есенина не однородно: есть у него произведения, как за советскую власть, так и против нее.
С Есениным не все однозначно…
В самом деле, с одной стороны поэт некогда писал заявление с просьбой принять его в партию большевиков, а с другой, как вспоминает В.Ф. Ходасевич, «Пьяный Есенин... кричал на весь ресторан... «Бей коммунистов, спасай Россию»... Так крыть большевиков, как это публично делал Есенин, не могло и в голову прийти никому в советской России».
Я не стану приводить воспоминания, я даже постараюсь как можно меньше рассуждать, я просто приведу отрывки из произведений поэта. Пусть читатель сам решит, кем был Есенин – большевиком или антибольшевиком.
Часть Первая
Есенин – большевик.
1. Ранние поэмы
Сойди, явись нам, красный конь!
Впрягись в земли оглобли.
Нам горьким стало молоко
Под этой ветхой кровлей.
Пролей, пролей нам над водой
Твое глухое ржанье
И колокольчиком-звездой
Холодное сиянье.
Мы радугу тебе – дугой,
Полярный круг – на сбрую.
О, вывези наш шар земной
На колею иную.
(“Пантократор”, 1919).
Листьями звезды льются
В реки на наших полях.
Да здравствует революция
На земле и на небесах! («Небесный барабанщик», 1918-19).
Небо - как колокол,
Месяц - язык,
Мать моя - родина,
Я - большевик. (“Иорданская голубица», 1918)
2. «Песнь о великом походе», 1924
Вот как пишет Есенин о белых:
Если крепче жмут,
То сильней орешь.
Мужику одно:
Не топтали б рожь.
А как пошла по ней
Тут рать Деникина -
В сотни верст легла
Прямо в никь она.
Над такой бедой
В стане белых ржут.
Валят сельский скот
И под водку жрут.
Мнут крестьянских жен,
Девок лапают.
«Так и надо вам,
Сиволапые!
Ты, мужик, прохвост!
Сволочь, бестия!
Отплати-кось нам
За поместия.»
Теперь – о красных:
Но сильней всего
Те встревожены,
Что ночьми не спят
В куртках кожаных,
Кто за бедный люд
Жить и сгибнуть рад,
Кто не хочет сдать
Вольный Питер-град.
3. О Ленине
Строки из стихотворения «Письмо к женщине» (1924):
Теперь года прошли.
Я в возрасте ином.
И чувствую и мыслю по-иному.
И говорю за праздничным вином:
Хвала и слава рулевому!
Строки из стихотворения «Стансы» (1924):
Я вижу все.
И ясно понимаю,
Что эра новая -
Не фунт изюму нам,
Что имя Ленина
Шумит, как ветр по краю,
Давая мыслям ход,
Как мельничным крылам.
Строки из «Баллады о двадцати шести» (1924):
Коммунизм -
Знамя всех свобод.
Ураганом вскипел
Народ.
На империю встали
В ряд
И крестьянин
И пролетариат.
Там, в России,
Дворянский бич
Был наш строгий отец
Ильич.
Строки из поэмы «Гуляй-поле»:
Монархия! Зловещий смрад!
Веками шли пиры за пиром,
И продал власть аристократ
Промышленникам и банкирам.
Народ стонал, и в эту жуть
Страна ждала кого-нибудь...
И он пришел.
Он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.
Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,
Берите все в рабочьи руки.
Для вас спасенья больше нет -
Как ваша власть и ваш Совет».
И мы пошли под визг метели,
Куда глаза его глядели:
Пошли туда, где видел он
Освобожденье всех племен...
И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин
Салют последний даден, даден.
ТОГО, КТО СПАС НАС, больше нет.
Строки из стихотворения «Ответ» (1924):
Но эта пакость -
Хладная планета!
Ее и Солнцем-Лениным
Пока не растопить!
Из данных отрывков видно, что Есенин явно симпатизирует Ленину.
Часть Вторая
Есенин-антибольшевик
Большевистская власть требовала от людей, живших в революционное время, чтобы они подчинялись законам этого времени. Такое мировоззрение четко определил поэт Э. Багрицкий. Говоря о революционном веке, в котором ему и Есенину довелось жить, он писал:
Но если он [век] скажет:
«Солги» - солги,
Но если он скажет:
«Убей» - убей...
Сергей Есенин с детства был воспитан на христианских, православных ценностях, поэтому проповедовал иное. В одном из юношеских писем своему другу Г. Панфилову Есенин говорил: «Да, Гриша, люби и жалей людей – и преступников, и подлецов, и лжецов, и страдальцев, и праведников: ты мог и можешь быть любым из них. Люби и угнетателей и не клейми позором, а обнаруживай лаской жизненные болезни людей».
1. Есенин против бесчеловечности
Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам,
Я всего лишь уличный повеса,
Улыбающийся встречным лицам, («Я обманывать себя не стану», 1922)
В 1919 г. в маленькой поэме «Кобыльи корабли» поэт, обращаясь к зверям, которые, по его мнению, стали лучше людей, говорит:
Никуда не пойду с людьми,
Лучше вместе издохнуть с вами,
Чем с любимой поднять земли
В сумасшедшего ближнего камень.
В этой же поэме есть и такие строки, говорящие об его отношении к революционерам:
Вёслами отрубленных рук
Вы гребётесь в страну грядущего.
В «Письме к женщине»(1924) поэт писал:
Не знали вы,
Что я в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь, что не пойму -
Куда несет нас рок событий.
Так и не сумев разобраться в событиях, поэт сам отстранил себя от них. Из того же «Письма»:
И я склонился над стаканом,
Чтоб, не страдая ни о ком,
Себя сгубить
В угаре пьяном.
Нравится ли Есенину то, что происходит? Скорее всего, нет:
Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом. («Русь уходящая», 1924).
Есенин (впервые после своего зарубежного путешествия) провел несколько дней в родном селе.
Встреча поэта с деревней описана в его стихотворении «Возвращение на родину» (1924). Вот отрывок из этого произведения:
"Добро, мой внук,
Добро, что не узнал ты деда!.."
"Ах, дедушка, ужели это ты?"
И полилась печальная беседа
Слезами теплыми на пыльные цветы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Тебе, пожалуй, скоро будет тридцать...
А мне уж девяносто...
Скоро в гроб.
Давно пора бы было воротиться".
Он говорит, а сам все морщит лоб.
"Да!.. Время!..
Ты не коммунист?"
"Нет!.."
"А сестры стали комсомолки.
Такая гадость! Просто удавись!
Вчера иконы выбросили с полки,
На церкви комиссар снял крест.
Теперь и богу негде помолиться.
Уж я хожу украдкой нынче в лес,
Молюсь осинам...
Может, пригодится...
Пойдем домой –
Ты все увидишь сам".
И мы идем, топча межой кукольни.
Я улыбаюсь пашням и лесам,
А дед с тоской глядит на колокольню.
Есенин раскаивается в своих былых революционных настроениях, о чем пишет в стихотворении «Метель» (1924):
И первого
Меня повесить нужно,
Скрестив мне руки за спиной:
За то, что песней
Хриплой и недужной
Мешал я спать
Стране родной.
2. «Капитал»
О «Капитале», чтимой большевиками книге, Есенин писал неоднократно, причем без особого уважения.
И вот сестра разводит,
Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»,
О Марксе,
Энгельсе...
Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал. («Возвращение на родину» 1924)
Вертитесь, милые!
Для вас обещан прок.
Я вам племянник,
Вы же мне все дяди.
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Понюхаем премудрость
Скучных строк. («Стансы», 1924).
И, самого себя
По шее гладя,
Я говорю:
«Настал наш срок,
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Чтоб разгадать
Премудрость скучных строк». («Стансы», 1924).
И скажет громко:
«Вот чудак!
Он в жизни
Буйствовал немало…
Но одолеть не мог никак
Пяти страниц
Из «Капитала». («Метель», 1924).
Земля, земля!
Ты не металл, –
Металл ведь
Не пускает почку.
Достаточно попасть
На строчку,
И вдруг –
Понятен «Капитал». («Весна», 1924).
3. «Страна негодяев».
В 1923 г. в письме А. Кусикову Сергей Александрович написал: «Перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно, что ни к февральской, ни к октябрьской...»
Отчего так – он объяснил в поэме «Страна негодяев»:
Банды! Банды!
По всей стране.
Куда не вглядись, куда не пойди ты -
Видишь, как в пространстве,
На конях
И без коней,
Скачут и идут закостенелые бандиты.
Это все такие же
Разуверившиеся, как я...
А когда-то, когда-то...
Веселым парнем,
До костей весь пропахший
Степной травой,
Я пришел в этот город с пустыми руками,
Но зато с полным сердцем
И не пустой головой.
Я верил... я горел...
Я шел с революцией,
Я думал, что братство не мечта и не сон,
Что все во единое море сольются -
Все сонмы народов,
И рас, и племен.
Пустая забава.
Одни разговоры!
Ну что же?
Ну что же мы взяли взамен?
Пришли те же жулики, те же воры
И вместе с революцией
Всех взяли в плен...
Это монолог Номаха. Номах – бандит. Совсем нетрудно догадаться, что под именем Номаха скрывается Нестор Махно.
Вот что Номах говорит о большевиках:
Все вы носите овечьи шкуры,
И мясник пасет для вас ножи.
Все вы стадо!
Стадо! Стадо!
Неужели ты не видишь? Не поймешь,
Что такого равенства не надо?
Ваше равенство – обман и ложь.
Старая гнусавая шарманка
Этот мир идейных дел и слов.
Для глупцов – хорошая приманка,
Подлецам – порядочный улов.
Вот другой отрывок:
У меня созревает мысль
О российском перевороте,
Лишь бы только мы крепко сошлись,
Как до этого в нашей работе.
Я не целюсь играть короля
И в правители тоже не лезу,
Но мне хочется погулять
И под порохом, и под железом.
Мне хочется вызвать тех,
Что на Марксе жиреют, как янки.
Мы посмотрим их храбрость и смех,
Когда двинутся наши танки.
Складывается впечатление, что Есенин на стороне Номаха и вкладывает в уста бандита свои собственные сокровенные мысли…
Совсем другим показан еврей-коммунист с говорящей фамилией Чекистов.
Вот что говорит Чекистов о русском народе:
Мать твою в эт-твою!
Ветер, как сумасшедший мельник,
Крутит жерновами облаков
День и ночь...
День и ночь...
А народ ваш сидит, бездельник,
И не хочет себе ж помочь.
Нет бездарней и лицемерней,
Чем ваш русский равнинный мужик!
Коль живет он в Рязанской губернии,
Так о Тульской не хочет тужить.
То ли дело Европа?
Там тебе не вот эти хаты,
Которым, как глупым курам,
Головы нужно давно под топор...
Я гражданин из Веймара
И приехал сюда не как еврей,
А как обладающий даром
Укрощать дураков и зверей.
Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысячи лет,
Потому что...
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет.
Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы Божие...
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.
Ха-ха!
Что скажешь, Замарашкин?
Ну?
Или тебе обидно,
Что ругают твою страну?
Бедный! Бедный Замарашкин...
4. «Послание «евангелисту» Демьяну».
В апреле-мае 1925 г., когда в целых десяти номерах газеты «Правда» напечатали один из самых антихристианских опусов Демьяна Бедного – поэму «Новый завет без изъяна Евангелиста Демьяна», Есенин был единственным в то время поэтом, который открыто встал на защиту Христа, написав поэтическое «Послание «евангелисту» Демьяну».
Это произведение хочется привести целиком:
Я часто размышлял, за что его казнили,
За что Он жертвовал своею головой?
За то ль, что, враг суббот,
Он против всякой гнили
Отважно поднял голос свой?
За то ли, что в стране проконсула Пилата,
Где культом Кесаря полны и свет, и тень,
Он с кучкой рыбаков из местных деревень
За Кесарем признал лишь силу злата?
За то ль, что, разорвав на части лишь себя,
Он к горю каждого был милосерд и чуток
И всех благословлял, мучительно любя
И маленьких детей, и грязных проституток?
Не знаю я, Демьян, в "Евангелье" твоём
Я не нашёл правдивого ответа.
В нём много бойких слов,
Ох, как их много в нём,
Но слова нет, достойного поэта.
Я не из тех, кто признаёт попов,
Кто безотчётно верит в Бога,
Кто лоб свой расшибить готов,
Молясь у каждого церковного порога.
Я не люблю религию раба,
Покорного от века и до века,
И вера у меня в чудесное слаба -
Я верю в знание и силу человека.
Я знаю, что, стремясь по чудному пути,
Здесь, на земле, не расставаясь с телом,
Не мы, так кто-нибудь ведь должен же дойти
Воистину к божественным пределам.
И всё-таки, когда я в "Правде" прочитал
Неправду о Христе блудливого Демьяна,
Мне стыдно стало так, как будто я попал
В блевотину, изверженную спьяна.
Пусть Будда, Моисей, Конфуций и Христос -
Далёкий миф, мы это понимаем,
Но всё-таки нельзя, как годовалый пёс,
На всё и вся захлёбываться лаем.
Христос - сын плотника - когда-то был казнён,
(Пусть это миф), но всё ж, когда прохожий
Спросил его: "Кто ты?" - Ему ответил Он
"Сын человеческий", а не сказал: "Сын Божий".
Пусть миф Христос, пусть мифом был Сократ,
И не было Его в стране Пилата,
Так что ж, от этого и надобно подряд
Плевать на всё, что в человеке свято?
Ты испытал, Демьян, всего один арест,
И ты скулишь: "Ох, крест мне выпал лютый"!
А что ж, когда б тебе голгофский дали б крест
Иль чашу с едкою цикутой?
Хватило б у тебя величья до конца
В последний раз, по их примеру тоже,
Благословлять весь мир под тернием венца
И о бессмертии учить на смертном ложе?
Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил,
Ты не задел его своим пером нимало.
Разбойник был, Иуда был,
Тебя лишь только не хватало.
Ты сгустки крови у креста
Копнул ноздрёй, как толстый боров.
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов.
Но ты свершил двойной и тяжкий грех
Своим дешёвым балаганным вздором:
Ты оскорбил поэтов вольный цех
И малый свой талант покрыл большим позором.
Ведь там, за рубежом, прочтя твои "стихи",
Небось злорадствуют российские кликуши:
"Ещё тарелочку Демьяновой ухи,
Соседушка, мой свет, пожалуйста, откушай!"
А русский мужичок, читая "Бедноту",
Где образцовый блуд печатался дуплетом,
Ещё отчаянней потянется к Христу
И коммунистам мат пошлет при этом.
Мне кажется, комментировать это произведение не нужно: позиция Есенина ясна и без комментариев.
5. Пастушонок Петя
Есенин, несмотря на всю свою серьезность, имел неплохое чувство юмора. Подтверждением тому является такое произведение поэта как «СКАЗКА О ПАСТУШОНКЕ ПЕТЕ, ЕГО КОМИССАРСТВЕ И КОРОВЬЕМ ЦАРСТВЕ». В ней рассказывается о том, как пастушонок Петя становится комиссаром, однако, не справляется со своими обязанностями и снова идет работать пастухом. Сказка Есенина заканчивается следующими меткими строками:
Тяжело на свете
Быть для всех примером.
Будь ты лучше, Петя,
Раньше пионером.
Малышам в острастку,
В мокрый день осенний,
Написал ту сказку
Я - Сергей Есенин.
Написана сказка за два с половиной месяца до гибели поэта.
6. Противоречивость Есенина
Есенин искренне пытался разобраться в том, что происходит в стране:
Издатель славный! В этой книге
Я новым чувствам предаюсь,
Учусь постигнуть в каждом миге
Коммуной вздыбленную Русь. («Издатель славный! В этой книге…», 1924).
Есенин не желал быть изгоем в советском государстве:
Хочу я быть певцом
И гражданином,
Чтоб каждому,
Как гордость и пример,
Был настоящим,
А не сводным сыном
В великих штатах СССР. («Стансы», 1924).
И в то же время Есенин был недоволен большевиками.
Хотел поэт или нет, но нотки недовольства проникли и в его творчество:
Так грустно на земле,
Как будто бы в квартире,
В которой год не мыли, не мели.
Какую-то хреновину в сем мире
Большевики нарочно завели.
(«ЗАРЯ ВОСТОКА», 1924).
И хотя в этом произведении речь идет просто о советской редакции, чувствуется, что критика направлена также и на саму советскую власть.
Следует заметить, что Есенин не боялся открыто высказывать свое негативное мнение о политической литературе. Так на заседании пролетарских писателей в 1921 г. в Народном Комиссариате Просвещения поэт сказал: «Здесь говорили о литературе с марксистским подходом. Никакой другой литературы не допускается. Это уже три года! Три года вы пишете вашу марксистскую ерунду! Три года мы молчали! Сколько же еще вы будете затыкать нам глотку? И... кому нужен ваш марксистский подход? Может быть, завтра же ваш Маркс сдохнет...».
Заключение
Недаром Г. Иванов называл поэзию Есенина «противоядием против безбожия». Именно религиозность помогла Есенину сохранить человеческое лицо, не дала духовно деградировать….
Был ли Есенин большевиком или нет? Скорее нет.
Но в любом случае Есенин был патриотом своей родины, что подтверждают его замечательные строки:
Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, –
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким "Русь".
Как большевики воспитывали Есенина
Известно, что Ленин и Троцкий особого почтения к поэзии Демьяна Бедного не питали. «Грубоват. Идет за читателем, а надо быть впереди», - высказался однажды вождь. Троцкий тоже, хотя и спел ему дифирамбы в статье «Литература и революция», но сделал это не от чистого сердца, а по необходимости.
В революцию многие пришли «от сохи». Шашкой владеть научились. Пытались штурмом брать и поэзию, как недавно брали Перекоп. Вот и писали: «Семен Михайлович Буденный / Скакал на резвом кобыле». Или: «Рубаху рвану по-матросски - / И крикну: «Да здравствует Троцкий!»
Революционного энтузиазма молодым было не занимать, но разве это поэзия? А до каких пор можно было балаганного Демьяна считать первым пролетарским поэтом?
«Лицо, надо прямо сказать, не внушает симпатии, и обстановка вокруг него не ароматная… Лакействовать он будет, но на это есть и безыменские старшие и младшие».
(Троцкий)
А кого им, скажите на милость, прикажете обласкивать и возносить? Блока с его «Двенадцатью» - «первой поэмой о революции»? Так у него эта самая революция что-то не очень привлекательной вышла, с какими-то погромными лозунгами:
Запирайте этажи.
Нынче будут грабежи!
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови -
Господи! Благослови!
у Троцкого хватило ума молча пройти мимо блоковской поэмы, в которой многие (М. Горький, К. Чуковский и др.) увидели «сатиру и сатиру злую».
Есенин тоже не внушает доверия, с ним надо работать и работать. «Революция, - видите ли, - личность уничтожает», «Моя революция еще не наступила!» Того и гляди, на Запад сбежит, хотя себя «левее большевиков» объявляет:
Теперь в советской стороне
Я самый яростный попутчик.
«Как же, попутчик! До какой станции?» - саркастически уточнял Троцкий.
Нет, Сергей Александрович, большевиком мы тебя еще сделать должны, а не сделаем, значит, сломаем! Только и есть сейчас один Маяковский, да кому не надоело громыхание бочки по булыжной мостовой? После грохота войны и разрухи людям тишины и душевности хочется, а он «орет, выдумывает кривые словечки», - недовольно ворчит Ленин. Но приходится довольствоваться такой поэзией!
Конечно, по долгу службы воспитанием и перевоспитанием поэтов сподручнее заниматься Анатолию Васильевичу Луначарскому, но того самого в пору было перевоспитывать. Не годился для этой цели и Бухарин, хотя считался главным идеологом большевизма. Троцкий как самый образованный большевистский руководитель внимательно следил, направлял и командовал в литературе. И что из этого получилось? Все поэты и писатели «серебряного века» покинули большевистскую Россию, остались «ненадежные», «неустойчивые», «политически ограниченные попутчики». Поневоле приходилось петь дифирамбы пролетарским поэтам да печатать зеленую молодежь.
Троцкий с поэтами не церемонился:
«Присоединившиеся ни Полярной звезды с неба не снимут, ни беззвучного пороха не выдумают. Но они полезны, необходимы - пойдут навозом под новую культуру. А это вообще не так мало… Мы очень хорошо знаем политическую ограниченность, неустойчивость, ненадежность попутчиков. Но если мы выкинем Пильняка с его «Голым годом», серапионов с Всеволодом Ивановым, Тихоновым и Полонской, Маяковского, Есенина, так что же, собственно, останется, кроме еще неоплаченных векселей под будущую пролетарскую литературу?
Область искусства не такая, где партия может командовать».
Слова правильные, но не надо принимать их за чистую монету - они сказаны тогда, когда партия уже вынесла приговор всем тем, кто был «сам по себе». «Неистовый коммунист» (так называет его Ст. Куняев), журналист и партийный деятель Георгий Устинов обнародовал это решение в своей статье 1923 года. В ней крестьянские поэты Есенин, Клюев, Клычков и Орешин впервые были названы «психобандитами», а глава статьи называлась «Осужденные на гибель».
«Чуют ли поэты свою погибель? Конечно. Ушла в прошлое дедовская Русь, и вместе с нею с меланхолической песней отходят ее поэты. «По мне Пролеткульт не заплачет, / И Смольный не сварит кутью», - меланхолически вздыхает Николай Клюев. И Есенин - самый яркий, самый одаренный поэт переходной эпохи и самый неисправимый психобандит, вторит своему собрату: «Я последний поэт деревни».
Почему Есенину не по пути было с большевиками?
«Вардин ко мне очень хорош и очень внимателен. Он чудный, простой и сердечный человек. Все, что он делает в литературной политике, он делает как честный коммунист. Одна беда, что коммунизм он любит больше литературы».
Есенин написал это сестре, но знал, что все его письма становятся достоянием известных органов. Цитирует эти строки Галина Бениславская, а от себя добавляет: «Вардин, несмотря на узость его взглядов, благотворно подействовал на Сергея Александровича в смысле определения его «политической ориентации» (…) «Хорошее отношение к Вардину у него осталось навсегда. Даже в письме с Кавказа к Кате, упоминая, что с Вардиным ему не по пути, он отзывался о Вардине как о прекрасном человеке».
Все большевики, что тесно окружали Есенина, - и Вардин, и Воронский, и Берзинь, и др., - несомненно, были хорошими людьми, но коммунизм они любили больше литературы.
Есенин же сказал определенно: «Отдам всю душу Октябрю и маю, но только лиры милой не отдам». Рассказывает Альберт Рис Вильяме: «Я познакомился с Есениным вскоре после его разрыва с танцовщицей Айседорой Дункан. Есенин искал себе квартиру просторную и удобную. Но в перенаселенной Москве найти такую квартиру было трудно, и кто-то посоветовал поэту обратиться к Калинину.
Неважно, - со всей самоуверенностью молодости заявлял Есенин, - он будет рад увидеть Пушкина сегодняшней России, - и тут же добавил, - или любого из его друзей».
Надо сказать, что квартиры у Есенина не было. Никакой. За все годы его пребывания в любимой Москве никогда не имел своего угла. О бездомности Есенина в течение последних двух лет пишут все. Вот буквально анекдотический эпизод: «Друг, с которым Есенин пришел, спрашивает его: «Ты где ночевать будешь?» - «Не знаю, - отвечает поэт, - пойдем хоть к тебе». О том же поведала А. Назарова: «Есенин страшно мучился, не имея постоянного пристанища. На Богословском - комната нужна была Мариенгофу и Колобову, на Никитской - в одной комнатушке жили я и Галя. Он то ночевал у нас, то на Богословском, то где-нибудь еще, как бездомная собака скитаясь и, не имея возможности ни спокойно работать, ни спокойно жить… Его сестра тоже ютилась где-то в Замоскворечье. Из деревни должна была приехать другая сестра».
Поэт воспользовался советом друзей и пошел к Калинину. О чем между ними шел разговор, мы должно быть, никогда не узнаем, но, видно, нес проста Михаил Иванович посоветовал Есенину уе хать в свою деревню и пожить там годика два. Иначе говоря, посоветовал убраться из Москвы и отси деться в глуши. Были, наверное, у Калинина при чины для такого совета. Есенин не послушал Миха ила Ивановича. И что же последовало сразу за этим ослушанием? На Есенина обрушились все невзгоды: сборники не издавали, поэмы не печатали.
В одной из своих поэм он написал:
Я - законный хозяин страны Российской,
Как бездомная собака бродил по земле.
Книжный магазин, с которого он имел некоторый доход, перешел в другие руки. Кафе «Стойло Пегаса», где он был хозяином на паях с другими и получал дивиденды, обанкротилось, его тоже вскоре закрыли.
Айседоре послал успокоительную телеграмму:
«Мои дела блестящи. Был у Троцкого. Он отнесся ко мне изумительно. Благодаря его помощи мне дают сейчас большие средства на издательство».
А что на деле? Есенину всегда было нелегко, но такого трудного времени у него еще не было. Вчитайтесь в строки из дневника Галины Бениславской, которые никогда не публиковались:
«Поймите, - жаловался поэт, - в моем доме не я хозяин, в мой дом я должен стучаться, и мне не открывают».
«Иногда ему казалось, и так фактически было, его отвергли и оттерли. Ведь в конце концов все крестьянство СССР идеологичес ки чуждо коммунистическому мировоззрению, однако мы его вовлекаем в новое строительство.
Вовлекаем потому, что оно - сила, крупная величина. Сергею Александровичу было очень тяжело, что его в этом плане игнорировали как личность и как общественную величину. Положение создалось таким: или приди к нам с готовым оформившимся мировоззрением, или ты нам не нужен, ты ядовитый цветок, который может только отравить психику молодежи».
Сергей Александрович очень страдал от своей бездеятельности. «Это им не простится, за это им отомстят. Пусть я буду жертвой, я должен быть жертвой за всех, кого «не пускают». Не пускают, не хотят, ну так посмотрим. За меня все обозлятся. Это вам не фунт изюма. К-а-к еще обозлятся. А мы все злые. Вы не знаете, как мы злы, если нас обижают. Не тронь, а то плохо будет. Буду кричать, буду, везде буду. Посадят - пусть сажают - еще хуже будет. Мы всегда ждем и терпим долго. Но не трожь! Не надо!»
«Сколько лет наши власти скрывали эти бесхитростные строки близкого поэту человека. И все для того, чтобы скрыть правду о преследовании Есенина вождями большевиков по политическим мотивам», - рассказывал Эдуард Хлысталов.
О том, как большевики «воспитывали» Есенина, свидетельствуют и воспоминания Евдокимова (глава «На деревянном диванчике»).
«В августе месяце Литературно-художественный отдел перевели по тому же коридору в самый конец. В двух маленьких комнатах, загроможденных шкафами и столами с дурным архаическим отоплением, с переполнением комнат служебным персоналом и приходящей публикой, было тяжело и душно. И завели: не курить в комнатах.
В коридоре у дверей поставили маленький, для троих, деревянный диванчик. На этом диванчике, пожалуй, редкий из современных писателей не провел нескольких минут своей жизни.
И почти каждое посещение Есенина тоже начиналось с этого диванчика. Он приходил, закуривал - и выходил в коридор.
Всю осень он бывал довольно часто. И как-то случалось так, что чаще всего я встречал его на диванчике, замечая издали в коридоре знакомую фигуру…
Обычно ежемесячные выплаты по тысяче рублей приходилось выдавать по доверенностям Есенина то жене, то двоюродному брату Илье Есенину. До женитьбы поэта на СЛ. Толстой деньги получала сестра его, ЕЛ. Есенина.
В целях: сохранения денег, когда приходил за ними поэт в нетрезвом состоянии, мы считали своим долгом денег ему не выдавать.
Под благовидным предлогом я быстро сходил в нижний этаж, в финансовый сектор, предупреждал наших товарищей по работе, в кассе деньги Есенину не выдавать, или брал из кассы уже выписанный ордер. В случаях настойчивости поэта затягивали выдачу до 3-х часов дня, затем выдавали ему чек в банк, когда там в этот день уже прекращались операции. В последнем случае была надежда, что поэт наутро протрезвится и деньги не пойдут прахом».
Надо сказать, так воспитывало большевистское правительство не только Есенина. Вспоминают, например, как Владимир Маяковский танцевал чечетку в кабинете главного бухгалтера с обещанием, что не уйдет до тех пор, пока все деньги не будут лежать на столе. Из всех кабинетов сотрудники и сотрудницы приходили посмотреть, полюбоваться этим зрелищем. Маяковский умел добиваться своего.
У Есенина не было такой мертвой хватки. Был он деликатным, и если уходил с пустыми руками, то не смотрел в глаза. Ему было стыдно за людей. И Евдокимов помнил всю свою жизнь эту вину перед Есениным.
Предположим, что Есенина, «воспитывая», лишали денег в целях «профилактики», но точно так же по много раз приходилось ездить Бениславской или сестре Кате, «а часто даже на трамвай не было». Это тоже способствовало «трезвому существованию» или, наоборот, подталкивало к кабакам с желанием заглушить обиду?
Даже в последний день, уезжая насовсем из Москвы, не сумел получить денег, несмотря на то, что приходил из больницы за три дня до отъезда, предупреждал об этом.
Ордер выписан, - сказал Евдокимов, - но ты слишком рано пришел.
Есенин не получил ни утром, ни после двух, ни после четырех. И уехал в Ленинград без денег.
После ухода от Айседоры, как известно, Есенин жил у Г. Бениславской. Она вспоминает:
«Нам пришлось жить втроем (я. Катя и Сергей Александрович) в одной маленькой комнате, а с осени 1924 года прибавилась четвертая - Шурка. А ночевки у нас в квартире - это вообще нечто непередаваемое. В моей комнате - я, Сергей Александрович, Клюев, Ганин и еще кто-нибудь, а в соседней маленькой, холодной комнатушке, на разломанной походной кровати - кто-либо еще из спутников Сергея Александровича или Катя. Позже, в 1925 году, картина несколько измени лась: в одной комнате - Сергей Александрович, Сахаров, Муран, Болдовкин, рядом в той же комнатушке, в которой к этому времени жила ее хозяйка, - на кровати сама владелица комнаты, а на полу, у окна - ее сестра, все пространство между стеной и кроватью отводилось нам - мне, Шуре и Кате, причем крайняя из нас спала наполовину под кроватью.
Ну а как Сергею Александровичу трудно было с деньгами - этого словами не описать. «Прожектор», «Красная нива» и «Огонек» платили аккуратно. Но в журналы сдавались только новые стихи, а этих денег не могло хватить.
«Красная новь» платила кошмарно. Чуть ли не через день туда приходилось ездить (а часто на трамвай не было), чтобы в конце концов поймать тот момент, когда у кассира есть деньги. Вдобавок не раз выдавали по частям, по 30 руб., а долги тем временем накапливались, деньги нужны были в деревне, часто Сергей Александрович просил выслать. Положение было такое, что иногда нас лично спасало мое жалование, а получала я немного, рублей 70. Всего постоянных «иждивенцев» было четверо (мать, отец и две сестры), причем жили в разных местах, родители в деревне, сестры в Москве, а сам Сергей Александрович по всему СССР.
(…) Никогда в жизни до этого и после я не знала цены деньгам и не ценила всей прелести получения определенного жалованья, когда, в сущности, зависишь только от календаря».
5. Большевики Завод работал уже больше года, а люди все приезжали и приезжали в Печаткино. Никто не знал и не считал, сколько здесь собралось народу; одни говорили - пять, другие - восемь тысяч.В короткий срок возле проходной завода в один ряд выстроились четыре питейных
Глава XX СТАЛИН, МУЖИКИ И БОЛЬШЕВИКИ Впервые отец народов появился в пришвинском Дневнике в 1924 году: «Сталин выпустил брошюру против Троцкого „Троцкизм или Ленинизм“ – невозможно выговорить, а Каменев назвал свою брошюру „Ленинизм или Троцкизм“ – это выговаривается.
Глава 15 СТАЛИН, БОЛЬШЕВИКИ И МУЖИКИ Впервые отец народов появился в пришвинском Дневнике в 1924 году: «Сталин выпустил брошюру против Троцкого „Троцкизм или Ленинизм“ - невозможно выговорить, а Каменев назвал свою брошюру „Ленинизм или Троцкизм“ - это выговаривается.
БОЛЬШЕВИКИ Происшедшие в стране перемены изменили облик некогда чопорной столицы империи. Дочь британского посла Мири-эль Бьюкенен увидела революционный Петроград таким: «Грязные красные флаги развевались теперь над Зимним дворцом, крепостью и правительственными
Глава тридцать шестая. БОЛЬШЕВИКИ ПРОТИВ БОЛЬШЕВИКОВ ВЧК через год после ее создания чуть было не упразднили! Конечно, до этого бы не дошло, но так одно время казалось.Методы работы Всероссийской чрезвычайной комиссии нравились далеко не всем в большевистском
Глава шестнадцатая. Большевики у власти Я возвращалась на фронт. Поезда были страшно переполнены, но, к счастью, мне удалось устроиться в вагоне первого класса. В Молодечно я доложила о прибытии командующему 10-й армией генералу Валуеву и отобедала в его штабе вместе с
Глава 3 Посмертный грех Есенина У меня ирония есть… Если хочешь знать, Гейне - мой учитель. (Есенин о себе. Из воспоминаний Эрлиха) В воспоминаниях П. Чагина Есенин упоминает имя Генриха Гейне рядом с именем Карла Маркса. А между тем, Есенин уверял, что «ни при какой погоде»
19 Вечер в Политехническом музее. Ученик Есенина Августа Миклашевская. Что было после смерти Есенина Перерегистрация «Ассоциации» У некоторых критиков и литературоведов создалось убеждение, что своей статьей «Быт и искусство» Есенин начал разрыв с имажинистами. Те же
20 Ссора Есенина с Мариенгофом. «Мужиковствующие» действуют. Случай в пивной. Суд над 4 поэтами. Подозрительное окружение Есенина В том же октябре 1923 года Сергей встретил Кожебаткина, пошел с ним в какое-то кафе. Александр Мелентьевич рассказал Есенину, почему не платили
24 Триумф Есенина в Союзе поэтов. Прототипы героинь Есенина. Кто такая северянка в «Персидских мотивах»? Конец «Вольнодумца». Пояснения Всеволода Иванова Начало вечера Есенина в клубе поэтов было назначено в девять часов, но еще раньше клуб был переполнен членами Союза
25 Есенин и Мариенгоф в «Мышиной норе». Женитьба Есенина на С. А. Толстой. Выступление Есенина в Доме печати Наше новое кафе на углу Кузнецкого моста мы назвали «Мышиной норой». На простенке возле буфетной стойки Боря Эрдман смонтировал на деревянном щите эффектную витрину
Глава 8. Сын Есенина приезжает из Америки на могилу отца «…жить больше дни не стоит все равно…» Когда Надежда и Осип Мандельштам приезжали в Ленинград, они останавливались в доме Надежды Вольпин. Однажды маленького сына хозяйки спросили, показывая на Осипа Эмильевича:
Глава пятая Заграницей II-ой съезд Р. С. Д. Р. П. и раскол в партии. - Большевики и меньшевики. - Бронштейн-Троцкий, Плеханов и Ленин В ноябре 1902 года я, окончив, срок ссылки, вернулся в Николаев. Там, мне скоро пришлось с головой окунуться в дела местной социал-демократической
Глава 5 Большевики у власти Большевики у власти, но подавляющее большинство дворянско-буржуазного Петербурга относится к этому факту крайне поверхностно: "Мыслимое ли дело? Приходящее явление! Как-то кончится, и, очевидно, очень скоро…" Но как и почему "очевидно", никто не
Как воспитывали детей в семьях Пушкина и Солженицына …Невозможно хорошо воспитать детей, если сам дурен. Лев Толстой Наталья Пушкина-Ланская Мысли о замужестве Из писем Н. Н. Пушкиной-Ланской к П. П. Ланскому. «Наше наследие», № 3,1990 г.…А теперь я возвращаюсь к твоему
Глава восьмая. Большевики 1.Гонения на религию, начавшиеся сразу же после большевистского переворота, вызвали удивление у наивной В. А. Платоновой: она не могла понять, почему власть, объявившая себя народной, действует против традиционных народных верований. Алексей
«Бей коммунистов, спасай Россию!» - Сергей Есенин.120 лет назад 3 октября родился Сергей Есенин — самый переводимый в мире русский поэт. Он оставил много загадок. Но бесспорно одно: его главной любовью была Россия.
«Согласно официальной версии, жизнь Есенина трагически оборвалась в 30 лет. Но она не оборвалась — её оборвали», — уверен петербуржский поэт Николай Браун, сын поэта Николая Леопольдовича Брауна, который вместе с другими писателями выносил тело Есенина из «Англетера» 28 декабря 1925 г.
«Отец отказался подписывать протокол, где говорилось, что Есенин совершил самоубийство. Не поверил в самоубийство и писатель Борис Лавренёв, который тоже был в «Англетере» и на следующий день опубликовал в «Красной газете» статью о смерти поэта под заголовком «Казнённый дегенератами».
Отец говорил, что у поэта были две глубокие раны: пробоина над переносицей, как от рукоятки пистолета, и ещё одна под бровью. На шее не было характерной для висельника борозды. «Когда Есенина надо было выносить, — рассказывал отец, — я взял его, уже окоченевшего, под плечи. Запрокинутая голова опадала. Были сломаны позвонки». На мой вопрос, не был ли Есенин застрелен, был краткий ответ: «Он был умучен». Отец был уверен, что мёртвого Есенина принесли в номер гостиницы с допроса.
Я также был знаком с писателем Павлом Лукницким, одним из организаторов похорон Есенина, и однажды спросил, что он помнит о смерти поэта. Лукницкий подтвердил: поэт «умер при допросе», после пыток, сказав: «А левого глаза не было». — «Как не было?» — «Вытек».
Для похорон внешность Есенина настолько «отреставрировали», что при прощании в Московском доме печати, по свидетельству писательницы Галины Серебряковой, в гробу лежала «нарумяненная кукла».
Поэт был убит по тем же мотивам, по которым был казнён ряд его друзей и современников из писательской среды: Ганин, Клюев, Клычков, Васильев, Наседкин, Приблудный и другие. А ещё раньше, в 1921 г., —Гумилёв. Власть воинствующих безбожников-интер¬националистов ставила целью сделать непокорных «бывших» русских (такой термин появился в советской печати) послушным стадом. А если человек не поддавался — его убивали. В Ленинграде линию партии воплощал в жизнь Григорий Зиновьев (глава Коминтерна), в Москве — Лев Троцкий.
К моменту гибели на Есенина было заведено 13 уголовных дел. Поэт был единственным, кто мог в ресторане рядом с Красной площадью кричать: «Бей коммунистов, спасай Россию!» Это был момент, когда Есенин узнал, что коммунисты при подавлении Тамбовского мятежа использовали химическое оружие. Тогда против власти Советов восстали 70 тыс. крестьян во главе с атаманом Антоновым. Песня восставших — «Антоновская» — стала любимой песней поэта. Тогда же он изобразил Троцкого в виде «еврейского комиссара» в поэме «Страна негодяев». А другу писал: «Тошно мне, законному сыну Российской империи, быть пасынком в собственной стране».
От расправы Есенина спасло то, что он отбыл в путешествие по Европе и Америке с Айседорой Дункан».
Сразу после смерти поэта советские газеты писали: «С есенинщиной, которая дурно пахнет, надо заканчивать», «свихнувшийся талантливый неудачник». «Дурно пахло» для большевиков, например, то, что свой первый сборник стихов в 1915 г. Есенин «благоговейно посвятил» императрице Александре Фёдоровне, с которой был лично знаком, как и с великими княжнами, которым посвятил стихотворение «Царевнам». Есенин не нарушил присяги, данной царю Николаю II. Во время Февральской революции поэт служил в армии. Тогда многие солдаты присягали Временному правительству. А Есенин — нет. Незадолго до смерти он писал: «Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно: что ни к февральской, ни к октябрьской».
Поэт выступал против хулы на Бога, которую поощряли большевики. За полгода до гибели в ответ на кощунственные стихи Демьяна Бедного Есенин написал:
«Когда я в "Правде" прочитал
Неправду о Христе блудливого Демьяна
Мне стало стыдно, будто я попал
В блевотину, извергнутую спьяну».
А когда большевики решили убрать из всех его сочинений слово «Бог», поэт подрался с наборщиком в типографии, но восстановил прежний вариант. А новая власть тем временем разобрала в его родном Константинове колокольню (на которой юный Есенин звонил к праздникам), чтобы из того кирпича... построить свинарник. В Есенине никогда не умирал сельский мальчишка, который пел в церкви на клиросе, дружил с батюшкой Иоанном Смирновым, первым разглядевшим в нём талант поэта. Этот батюшка крестил Есенина с именем Сергей в честь преподобного Сергия Радонежского. Этот же батюшка и отпел поэта.
Есенин отходил от Бога и вновь возвращался. Просил:
«Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать...»
«Есенина отпевали в трёх местах: в Москве, родном селе Константинове и соседнем селе Федякине. Не было сомнений, что он убит. Иначе никто бы не стал его отпевать, — рассказала «АиФ»Ирина Михайловна Мамонова, внучка двоюродной сест¬ры поэта по линии отца. — Моя бабушка, Надежда Фёдоровна, была на семь лет старше поэта, она прожила 97 лет. Бабушка рассказывала, что была на отпевании в Константинове. А в Москве на отпевании — мама ЕсенинаТатьяна Фёдоровна. Бабушка виделась с Есениным за месяц до его кончины. Поэт прятался в больнице от чекистов. Есенина любил и ценил известный врач Пётр Ганнушкин. В опасные моменты он укрывал Сергея Александровича. А недруги Есенина создали миф о якобы его проблемах с психикой и беспробудном пьянстве. Однако сам Есенин (это есть в воспоминаниях, в частности, у И. Шнейдера) повторял: «Я ведь пьяным никогда не пишу».
Когда же пил Есенин, если за последние 5 лет жизни он написал около 100 стихотворений и 5 поэм, а за последний год жизни им было подготовлено к изданию и выпущено 4 сборника стихотворений? И в Ленинград, где произошла трагедия, он ехал работать над изданием полного собрания своих сочинений.
В Москве в декабрьские морозы проститься с поэтом пришли тысячи людей. Очередь была невероятной, с пяти вечера всю ночь и до утра не заканчивался людской поток. «Казнь Есенина продолжилась и после его смерти. Из могилы на Ваганьковском кладбище исчез гроб поэта, — говорит Николай Браун. — Это обнаружила в 1955 г. сестра Есенина Шура, когда могилу вскрыли, чтобы рядом с останками поэта похоронить его маму Татьяну Фёдоровну. В конце 80-х гг. нашёлся пожилой свидетель, шофёр ОГПУ Снегирёв, который 1 января 1926 г. принимал участие в изъятии гроба из могилы. Куда увезли гроб, он не знал».
У Есенина была возможность не возвращаться из-за границы.
Но он вернулся, хотя понимал, что едет на заклание. В своей любви к России он был искренним:
«Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою».
P. S. Дело о гибели великого русского поэта по сей день недоступно, на нём по-прежнему стоит гриф «секретно».
Сергей Есенин: "Не расстреливал несчастных по темницам…". - ч.3.
В 1915 г. молодой, задорный, полный жизненных сил Сергей Есенин написал строчки, ставшие пророческими:
По тому ль песку,
И меня ль по ветряному свею,
Полюбить тоску.
Поведут с веревкою на шее...
Пройдет всего семь лет, и вновь прозвучит пророчество о гибели Сергея Александровича, сказанное его близким другом, поэтом Николаем Клюевым: «Ты, обреченный на заклание... радуйся закланию своему...» — написал он в письме к Есенину. Сам поэт предчувствовал трагическую кончину. «Я буду жертвой...», — говорил он своему литературному секретарю Г. Бениславской, а за несколько дней до гибели прямо сознался В.Эрлиху: «Меня хотят убить! Я, как зверь, чувствую это!»Жизнь Сергея Александровича, согласно последним исследованиям, оборвалась 27 декабря 1925г. в гостинице «Англетер». Что происходило тогда в этой гостинице, как именно закончилось земное существование великого поэта — покажет (будем надеяться) ближайшее будущее. Однако уже сегодня можно с большой долей уверенности сказать, что Есенин, вопреки официальной версии, был убит, а затем подвешен. И здесь сразу же возникает вопрос: «А за что, собственно, мог быть убит Есенин?»
Не злодей я и не грабил лесом,
Я всего лишь уличный повеса,
Не расстреливал несчастных по темницам,
Улыбающийся встречным лицам —
Написал о себе Сергей Есенин. Написал просто и искренне, как впрочем, обо всем, о чем ему приходилось писать. «Я сердцем никогда не лгу», — сказано у него в одном из стихотворений. Как ни парадоксально, но именно эта позиция не устраивала большевистскую власть, считавшую, что коль человек живет в революционное время, он должен подчиняться законам этого времени. Такое мировоззрение четко определил пролетарский поэт Э.Багрицкий, говоря о своем веке, он писал:
«Солги» — солги,
Но если он (век) скажет:
«Убей» — убей...
Сергей Есенин, с детства воспитанный на христианских, православных ценностях, проповедовал иное. В одном из юношеских писем он писал своему задушевному другу Г. Панфилову: «Гриша, в настоящее время читаю Евангелие и нахожу в нем очень много для себя нового... Христос для меня совершенство», и в другом письме: «Да, Гриша, люби и жалей людей — и преступников, и подлецов, и лжецов, и страдальцев, и праведников: ты мог и можешь быть любым из них. Люби и угнетателей и не клейми позором, а обнаруживай лаской жизненные болезни людей».
Эти строки были написаны еще до революции 1917г., направленной против так называемых «угнетателей». Казалось бы, после революции Есенин переменил свои взгляды. Ведь он приветствовал ее («Да здравствует революция, и на земле, и на небесах!») и даже записал себя в ее творцы:
Небо, как колокол,
Мать моя — Родина,
Месяц — язык,
Я — большевик
А как большевик он и мыслить, и писать должен соответственно. И, в самом деле впав в духовное помрачение (впрочем, как и большинство русского народа), Сергей Есенин написал кощунственные стихи, соответствующие революционному, богоборческому времени. Так в одном из них говорится:
Тем же медом струится плоть
Тысячи лет те же звезды славятся,
Научил ты меня, Господь.
Не молится тебе, а лаяться
За копейки с златых осин
За седины твои кудрявые,
Непокорный, разбойный сын.
Я кричу тебе: «К черту старое!»
Казалось бы, отрекся он от «старого», в котором жизнь строилась на христианском милосердии и любви к ближнему, казалось, он должен стать проповедником нового, революционного завета: если надо — солги, если надо — убей...
Однако уже в 1919г., в маленькой поэме «Кобыльи корабли», поэт, обращаясь к зверям, которые, по его мнению, стали лучше людей, говорит:
Никуда не пойду с людьми.
Чем с любимой поднять земли
Лучше вместе издохнуть с вами,
В сумасшедшего ближнего камень.
В этой же поэме есть и такие строки:
Вы гребетесь в страну грядущего.
Веслами отрубленных рук
Есенин стал понимать, что революция строится на крови, стал прозревать от «ослепившей всех свободы». Но своим чутким, поэтическим сердцем он почувствовал, что это прозрение для него может стать роковым. И вновь зазвучали в его творчестве пророческие слова:
Только сердце под ветхой одеждой
«Друг мой, друг мой, прозревшие вежды
Шепчет мне, посетившему твердь:
Закрывает одна лишь смерть».
В 1923 г. в письме А. Кусикову Сергей Александрович написал: «Перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно, что ни к февральской, ни к октябрьской...» Отчего так — он объяснил в поэме «Страна негодяев»:
Одни разговоры
Пустая забава,
Ну что же мы взяли взамен?
Ну что же,
Те же воры
Пришли те же жулики,
Всех взяли в плен.
И законом революции
Вслед за идеологическим прозрением к Есенину пришло и духовное прозрение.
Стыдно мне, что я в Бога верил,
Горько мне, что не верю теперь.
Эти двойственные по смыслу строки известны всем почитателям творчества Сергея Александровича. С большой определенностью он высказался Айседоре Дункан в 1922 г.:
— Большевики запретили употреблять слово «Бог» в печати, ты знаешь?
— Но большевики правы. Нет Бога. Старо. Глупо.
— Эх, Айседора! Ведь все от Бога. Поэзия и даже твои танцы, — ответил Сергей Александрович, вспоминала переводчица Дункан Лола Кинел.
Однако возвращение Есенина к Богу было мучительно сложным. Даже в 1924 г. он в своих стихах еще не отделялся от свойственной интеллигенции того времени бравады. Так в произведении «Письмо к матери», Сергей Есенин пишет:
К старому возврата больше нет.
И молиться не учи меня, не надо.
Но уже через год зазвучали в его творчестве исповедально-покаянные строки:
Ты прости, что я
Я молюсь ему по ночам.
в Бога не верую,
И нужно молиться...
Так мне нужно.
Когда же в апреле-мае 1925 г. в целых десяти номерах газеты «Правда» напечатали один из самых антихристианских опусов Демьяна Бедного — поэму «Новый завет без изъяна Евангелиста Демьяна», Есенин открыто встал на защиту Православия, написав поэтическое «Послание «евангелисту» Демьяну». И хотя в нем Сергей Александрович опять-таки высказывает личное двойственное отношение к религии (которое, скорее всего, было ширмой для большевистской цензуры), однако, в общем он прямо говорит, что никто не должен растаптывать православную веру русского народа.
В своем послании поэт пишет:
…Когда я в «Правде» прочитал
Мне стыдно стало так, как будто я попал
Неправду о Христе блудливого Демьяна.
Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил,
В блевотину, изверженную спьяна...
Разбойник был, Иуда был.
Ты не задел его своим пером немало.
Ты сгустки крови у креста
Тебя лишь не хватало.
Ты только хрюкнул на Христа,
Копнул ноздрей, как толстый боров.
Ефим Лакеевич Придворов.
(Настоящее имя Демьяна Бедного было Ефим Алексеевич Придворов.)
В мае 1925 г. Есенин передал "Послание" для публикации в газету «Бакинский рабочий», редактором которой был его близкий друг П. Чагин. Однако он не осмелился опубликовать это произведение. И тогда оно пошло по народу в списках. Им зачитывались, его переписывали от руки и передавали друг другу. Копии широко распространились по России. Для того времени есенинское "Послание" сыграло большую роль в укреплении народного духа. Долгое время есениноведы отрицали подлинность этого «Послания», ссылаясь на слова Екатерины Есениной, опубликованные в 1926 г. в той же «Правде». «Это стихотворение брату моему не принадлежит». Однако в конце XX века был найден подлинник стихотворения и специалисты-графологи подтвердили, что оно написано Сергеем Есениным. К тому же существуют воспоминания П. Чагина, который лично от Есенина помнил это произведение.
В 1925 году большевикам стало окончательно ясно, что Есенина «приручить» им не удалось. Не стал он трубадуром революции . «Божья дудка» — так говорил о себе Сергей Есенин.Большевики увидели в нем идеологическую и духовную опасность . За ним установили слежку, на него заводили уголовные дела, грозившие в любое время перерасти в политические (только благодаря всемирной известности не решались отправить поэта в застенки ЧК).Есенин предчувствовал трагическую развязку, и это предчувствие мучило его. По воспоминаниям Екатерины Есениной, молясь перед распятием Иисуса Христа, он говорил: «Господи, ты видишь, как я страдаю, как тяжело мне...»
Двадцать седьмого декабря Сергей Александрович трагически погиб. Истинные причины его гибели были скрыты, но многие свидетели все же не поверили в то, что поэт покончил с собой. Муж Екатерины Есениной, поэт Василий Наседкин одним из первых видел труп в «Англетере» и сразу заявил ей: «На самоубийство не похоже... Мозги вытекли на лоб...»
В Православной Церкви также изначально нашлись священники, не поверившие в самоубийство. По данным исследователя жизни и гибели Есенина Н. Сидориной, панихиды по нему совершались в трех церквах: в Москве, в Ленинграде и на Рязанской земле. В Казанской церкви села Константиново Сергея Александровича заочно отпел его духовный наставник протоирей Иоанн Смирнов. В то время за отпевание самоубийц и панихиды по ним сразу лишали священнического сана. Значит, достаточно убедительными были свидетельства родственников о том, что Есенин не покончил с собой, а был убит.
Но в течение почти восьмидесяти лет версия о самоубийстве упорно внедрялась в сознание советского народа. И лишь в 1997 г. в газете «Известия» директор Особого архива А.С. Прокопенко заявил: «Исследователи причин смерти Сергея Есенина давно пришли к выводу о прямой причастности к гибели поэта ОГПУ. И документы об этом есть в архивах КГБ, да вот уже семь десятилетий не дают читать их. Ради только одного снятия греха самоубийства с души великого поэта должны быть названы нечестивцы, оборвавшие его жизнь».

Есенин был убит большевиками-интернационалистами за национальную самобытность, за проповедование в своем творчестве православных ценностей — любви к ближнему и милосердию, любви к Родине и русскому народу, за то, что своими стихотворениями великий поэт противостоял бездуховности, насаждаемой советской властью, и тем самым поддерживал в народе веру в то, что Православная Россия не канула в никуда, а значит, придет время ее возрождения. За это Сергей Есенин был обречен на заклание.
Большую исследовательскую работу в расследовании смерти Сергея Есенина - выявления причин, повлекших убийство, заказчиков и конкретных исполнителей преступления - проделал доцент кафедры литературы Санкт-Петербургской академии культуры, член Союза писателей Российской Федерации Виктор Кузнецов.В своей работе «Тайна гибели Есенина» автор написал:«В истории с Есениным садисты действовали напролом. Парадоксально, но факт: нет ни одного убедительного доказательства того, что поэтом было совершено самоубийство. А вот доказательств убийства - достаточно много».

Вот как описывает происшествие Кузнецов: «Режиссером «постановки» самоубийства Сергея Есенина в 5-м номере гостиницы «Англетер», был кинорежиссер «Севзапкино» Павел Петрович Петров (Макаревич), который, доверившись громилам, перетащившим тело убитого Есенина по подвальному лабиринту из здания следственной тюрьмы ГПУ, расположенного на проспекте Майорова, 8/23, не проверил подготовленный для открытого обозрения 5-й номер гостиницы».«В результате, возникло немало вопросов: почему веревка обвивала горло несчастного лишь полтора раза, и не было петли; как Есенин, истекающий кровью, смог с порезанными ладонями и другими ранами соорудить на столе столь сложную пирамиду и взобраться под потолок; что за страшный вдавленный след над переносицей (официальная версия — ожог); наконец, куда-то исчез пиджак покойного. Кстати сказать, видевший его известный в то время врач-рентгенолог, член ленинградской литературной группы «Содружество» (1925-1929) И. Оксенов записал в «Дневнике»: «...вдоль лба виднелась багровая полоса (ожог — от горячей трубы парового отопления, о которую он ударился головой), рот полуоткрыт, волосы, развившиеся страшным нимбом вокруг головы». И далее: «В гробу он был уже не так страшен. Ожог замазали, подвели брови и губы».Далее Кузнецов приводит свидетельства начинающего тогда доносчика, молодого стихотворца Павла Лукницкого: «Есенин мало был похож на себя. Лицо его при вскрытии исправили, как могли, но все же на лбу было большое красное пятно, в верхнем углу правого глаза — желвак, на переносице — ссадина, и левый глаз — плоский: он вытек» («Встречи с Анной Ахматовой». Т. 1. 1924-1925. Paris: Ymca-Press, 1991).
Фотоматериалы - доказательства версии убийства Сергея Есенина: Все фотографии — оригиналы хранятся в музее С.А. Есенина. Здесь же представлены фотографии посмертных масок поэта, хранящихся как в музеях, так и в частных коллекциях.

Фотоматериалы указывают не только на то, что Сергей Есенин не совершал самоповешения, но также и на то, что он перед смертью оказывал сильное сопротивление палачам, наносившим ему смертельные раны.
Все фотографии сопровождаются вопросами, в связи с несоответствием изображений официальной версии, утверждающей самоубийство поэта.
Что означает для России признание официальной версии гибели Сергея Есенина
Эмигрант, историк и литератор Михаил Коряков в 1950 году безапелляционно заявил: «Оплевывать Есенина - значит оплевывать Россию и русский народ».Почему народ России обманули, почему заставили верить в самоубийство Сергея Есенина? Почему запретили его стихи? Чего так боялась советская власть и зарождающаяся коммунистическая система?
Позволить людям читать стихи Есенина - для коммунистической системы означало позволить людям верить в Бога, отчего потерять веру в компартию, и, в конце концов, для компартии это означало - потерять свою власть над народом. Поэтому молодой гений Сергей Есенин был оклеветан и представлялся народу как дебошир, скандалист, пьяница и бабник, к тому же - психически больной.
Но и этого оказалось мало для правящего коммунистического режима, надо было сделать великого русского поэта еще грешником - поэтому и совершилось это чудовищное преступление не только в отношении физического уничтожения поэта, но и уничтожение совести русского народа. Поверившие в эту ложь люди становились соучастниками этого преступления. По своей сути убийство Сергея Есенина - это преступление против человечности.
Позже поэзия Есенина была запрещена, за чтение стихов поэта людей привлекали по 58-й статье (статья в Уголовном кодексе РСФСР, вступившая в силу с 25 февраля 1927 для противодействия контрреволюционной деятельности). Кампания борьбы с «есенинщиной» продолжалась несколько десятилетий.
Возвращение чистого, достойного и гордого имени великого русского поэта Сергея Александровича Есенина - это возвращение совести народа России.
С самого начала своей истории убийств коммунистическая система всегда применяла одну и ту же бандитскую тактику: она начинала с того, что создавала в обществе негативные слухи о том, кого собиралась преследовать. Если человек был сломлен духовно, он не представлял больше угрозы коммунистической системе, но если человек оставался верен каким-то идеалам, его надлежало уничтожить, как и поступили с Сергеем Есениным, которого советская власть поставила «вне закона».
«Кем бы ни был человек, поставленный вне закона, он разом перечеркивается, какими бы ни были в прошлом его заслуги. Так что, о каких либо сомнениях в его виновности говорить не приходится: этот человек превращается не просто в изгоя, а в живой труп, чья смерть была только делом времени…», - сказал генерал-лейтенант юстиции А.Ф. Катусев.
Ветры,ветры,о снежные ветры,
Заметите мою прошлую жизнь.
Я хочу быть отроком светлым
Иль цветком с луговой межи.
Я хочу под гудок пастуший
Умереть для себя и для всех.
Колокольчики звездные в уши
Насыпает вечерний снег.
Хороша бестуманная трель его,
Когда топит он боль в пурге.
Я хотел бы стоять,как дерево,
При дороге на одной ноге.
Я хотел бы под конские храпы
Обниматься ссоседним кустом.
Подымайте ж вы, лунные лапы,
Мою грусть в небеса ведром.
(с.Есенин. 1919г).
Главный недуг
Друзья и знакомые поэта сходятся во мнении, что алкоголизм Есенина и стал первейшей причиной его преждевременного ухода «в ту страну, где тишь и благодать». Сам поэт, отвечая 5 декабря 1925 года на вопросы при заполнении амбулаторной карты, в графе «Алкоголь» ответил: «Много, с 24 лет». Там же рукой лечащего врача безжалостно выведено: «Белая горячка, (галлюцинации)». В начале своей богемной жизни молодой здоровый организм рязанского парня справлялся с обязательными тусовочными возлияниями. Есенину даже удавалось организовывать «разгрузочные» дни. В 1921 году он с удовольствием отмечает в письме своему другу Анатолию Мариенгофу: «…так пить я уже не буду, а сегодня, например, даже совсем отказался, чтобы посмотреть на пьяного Гришку. Боже мой, какая это гадость, а я, вероятно, еще хуже бывал». Но надолго поэта не хватало. В последний год своей жизни Есенин стал, по выражению того же Мариенгофа, «человеком не больше одного часа в сутки. От первой, утренней, рюмки уже темнело сознание».
В 1922 году Сергей Александрович жалуется в письме своему поэтическому «наставнику» Клюеву: «Очень я устал, а последняя моя запойная болезнь совершенно меня сделала издерганным». Будучи в Америке с супругой Айседорой Дункан, Есенин допивался до эпилептических припадков. Справедливости ради надо сказать, что не только от количества выпитого виски, но и от его качества. В то время Америку сотрясал «сухой закон», потому с утра приходилось принимать на грудь самогонные суррогаты. А. Дункан в газете «Геральд Трибьюн» писала, стараясь хоть как-то выгородить мужа и объяснить пьяные шабаши с битьем зеркал в отелях: «Приступы душевного расстройства, которыми страдает Есенин, происходят не только от алкоголя… а также отравления крови от употребления «запрещенного» американского виски, в чем я имею удостоверение одного знаменитого нью-йоркского врача, который лечил Есенина при подобных припадках в Нью-Йорке…».
О взаимоотношениях с властью
Адепты версии насильственной смерти поэта вовсю напирают на роковые конфликты Есенина с властями. Конфликты были, но лишь на почве кабацкого буйства поэта. Есенина 10 раз доставляли в милицию. Но не для того, чтобы пытать, а для «вытрезвления». Цитирую его собрата по перу В. Ходасевича, близко знавшего Есенина: «Относительно же Есенина был отдан в 1924 году приказ по милиции - доставлять в участок для вытрезвления и отпускать, не давая делу дальнейшего хода».Власти довольно трогательно относились к певцу «Руси советской». Единственная поэма, которую с огромной натяжкой можно отнести к критической по отношению к властям - это «Страна негодяев». Там у Есенина присутствует герой по фамилии Лейбман с псевдонимом Чекистов. Если кто не знает, имя одного из вождей революции Троцкого-Бронштейна - Лейб. Разве этим совпадением можно было смертельно обидеть Лейба Давидовича? Есть и другие «страшные» словеса, которые произносит Махно (в поэме бандит Номах): «Стадо! Стадо! …Ваше равенство - обман и ложь. Для глупцов - хорошая приманка. Подлецам - порядочный улов». Но бандит и должен говорить страшилки, на то он и бандит. Вот и все диссидентство. Зато сколько проникновенных строк Есенин излил на бумагу в пользу большевистских дел! А на смерть Ленина поэт откликнулся так, как может откликнуться только большой поэт-лирик: «И вот он умер… Того, кто спас нас, больше нет. А те, кого оставил он, страну в бушующем разливе должны заковывать в бетон».
Есенинская враждебность к большевикам - это миф. Конечно, по пьяной лавочке Сергей Александрович начинал фордыбачить и, бывало, произносил всякое непотребство, но к его кабацкому фрондерству власти относились снисходительно. Если бы он являл опасность для властей, его бы запросто обвинили в каком-нибудь заговоре и шлепнули бы, как, например, поэта Николая Гумилева. Есенин был на короткой ноге со многими чекистами. В частности, любил таскать за собой по вечеринкам известного чекиста-мокрушника Якова Блюмкина, порешившего летом 1918 года самого германского посла. Есенин, по словам Ходасевича, для куража мог предложить честной компании съездить посмотреть на расстрел «контры». «Я это вам через Блюмкина в одну минуту устрою», - вполне серьезно заявлял распалившийся поэт-лирик.